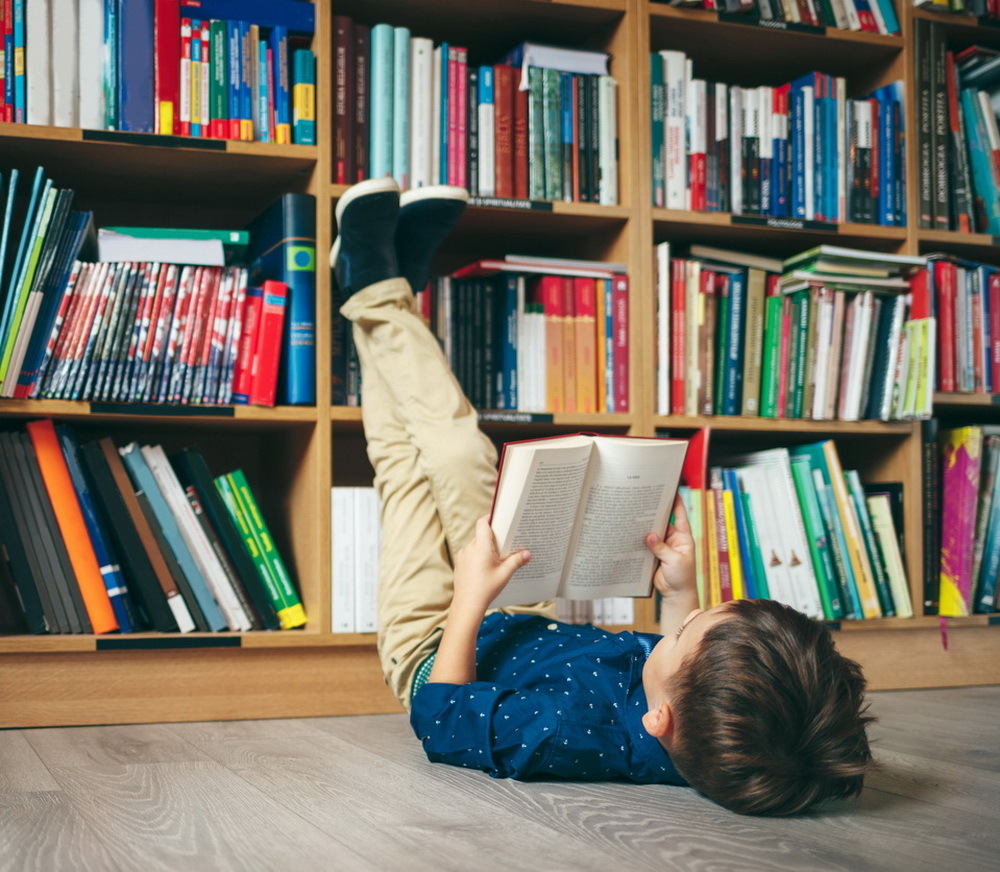Человекобог, как и было сказано. Валерий Фокин показал «Рождение Сталина» в Александринском театре

Валерий Фокин выпустил на большой сцене Александринки долгожданный спектакль «Рождение Сталина». Кто ждал политического памфлета, театрального судебного процесса или ритуала «истребления тиранов» — будут удивлены. Потому что Фокина, как выяснилось, интересует не то, чем все закончилось, а то, как все начиналось. Спектакль – фокинская версия того, какие процессы происходили в мозговой коробке будущего отца народов, начиная с мая 1899 года, когда герой покинул семинарию, и к чему они привели.
«Мы не следуем буквально документам, фактам. Театр имеет право домысливать, на то он и театр», — объявляет Фокин на сайте Александринки. Так что оставим сразу же напрасную затею «догадки проверять, сличать браслеты». Я не случайно использую цитату из «Маскарада», который идет на этой же сцене в постановке того же Фокина: в том спектакле факты театральной истории и их сопоставление с современностью как раз составляли суть сюжета. «Рождение Сталина» в этом смысле — «Маскараду» прямая противоположность. Это фантазия, художественный допуск Фокина, человека, изучившего немало документов по теме, много размышлявшего о конкретной исторической персоне и об этой стране — и решившего этими размышлениями поделиться с современниками. Это гипотеза, которой мы никогда не найдем подтверждения или опровержения. Гипотеза, которая лично мне показалась весьма любопытной и оригинальной. Но я допускаю, что кто-то другой вполне может с ней категорически не согласиться.
Действие разбито на сцены, каждая из которых происходит в отдельном «павильончике». Одна платформа на колесиках с определенной «картинкой» уезжает, другая становится на ее место (художник Николай Рощин). Первая платформа — храм, вид на иконостас. На скамье справа сидит женщина в черном грузинском одеянии и корзинкой в руках: актриса Елена Немзер выглядит совершеннейшей грузинкой, так что, зазвучи в ее устах не грузинская, а русская речь, это показалось бы неправдой. Но она тихо и смиренно, по-грузински пытается убедить сидящего перед ней с опущенной головой юношу в длиннополой одежде, что лучше бы ему окончить семинарию и сделаться священником. Юноша поднимает голову, но только для того, чтобы взять из рук матери куриную ножку, дважды надкусить ее и запить вином из глиняной бутылки (запомните эту недоеденную курицу, это смысловая, как выяснится позже, деталь). Мать тоже появляется не случайно — именно мать, а не отец-алкоголик, который упоминается в беседе.
Бархатов (Александр Лушин) и Иосиф Джугашвили (Владимир Кошевой)
Фото: Владимир Постнов, предоставлено пресс-службой Александринского театра
Иосифа Джугашвили играет Владимир Кошевой, артист, которого прославила роль Родиона Раскольникова в сериале Дмитрия Светозарова. Эта параллель с Достоевским, да еще с героем, который «глядел в Наполеоны» и делил людей на «тварей дрожащих» и «право имеющих», в том числе, право на убийство, — тоже не случайность. И она в спектакле – не единственная. Спектакль вообще построен как шарада, разгадка которой прояснится в самом конце. А пока, в первой сцене, у зрителей есть возможность сравнить два документа. Когда мать исчезнет из действия навсегда — но еще однажды в ключевой момент всплывет в сознании героя Кошевого, — появится Давид, товарищ Иосифа по семинарии: этакий уютный, комфортный молодой человек, в котором довольно сложно заподозрить бунтаря любого толка, не то что рыцаря революции. Но Иосиф, которому артист Кошевой отдает всю свою природную харизму и благоприобретенную «звездность», действует в этой системе координат как искуситель и побеждает. Только что юноши хором на вопросы случившегося в храме батюшки шпарили без запинки катехизис веры, охраняющий человека от всех страхов, включая самый сильный из всех — страх смерти — и вот уже, выхватив, как какой-нибудь Коровьев на сеансе черной магии, прямо из-за иконы бумажку, Иосиф с азартом читает приятелю совсем другой катехизис: «Революционер — человек обреченный, он остается в этом мире, только чтобы вернее его разрушить». Вера в конкретного человека оказывается гораздо сильнее «уверенности в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем» (которую предписывает «Катехизис веры») — и уже в следующей сцене резко повзрослевшие Давид с Иосифом вышагивают по тифлисской улице мимо типично тбилисского дома с внешними лестницами.
Грузинский колорит и темперамент Фокину важны как предлагаемое обстоятельство — люди взрывные, темпераментные, азартные. К примеру, Иосиф и Давид непременно подрались бы со своим ровесником в характерной грузинской кепке с большим козырьком, кабы не появился городовой и его пленник в наручниках — долговязый юноша Сандро (Дмитрий Бутеев), сопровождаемый местным родовитым и богатым гражданином, который вдобавок оказывается еще и отцом прелестной леди. Тут Фокин лаконично, четко и просто, как в учебнике, объясняет публике, кто, собственно, шел в революцию — какие личностные типы и социальные слои: славные вечно голодные мальчишки, вынужденные воровать, отъявленные головорезы без тормозов, которые в противном случае подались бы в бандиты (парень в кепке, герой Ивана Ефремова, оказывается ни кем иным, как одним из самых знаменитых в истории революционеров Камо, к которому по особой склонности к убийству немедленно прилипает кликуха «Зверь»), ну и, разумеется, идейные дочки богатых папаш. Так в действии появляется Ольга — Анна Блинова, молодая актриса, которая, в отличие от многих сегодняшних актрис на амплуа героинь, способна достоверно воплотить неистовую веру на грани фола и убедительно играет на этой сцене не только Сонечку Мармеладову и Комиссара в «Оптимистической трагедии», но и саму Ксению Петербуржскую. Без женщины, это вам любой Акунин подтвердит, невозможно рассказать ни одну политическую историю, для манкости сюжета она необходима. Только горячие взгляды юной прекрасной особы делают героя по-настоящему героем.
Шутки шутками, но две последующие сцены, где обсуждается и осуществляется крупнейший за период 1905-1907 годов теракт с ограблением кареты казначейства на Эриванской площади, в истории фигурирующий как «Тифлисская экспроприация», — это весьма тонко поставленная и сыгранная актерами психологическая партитура. Несмотря на идейные разговоры, в которых нет никакого ступора перед необходимостью убить (бомба, брошенная в толпу, непременно повлечет жертвы, но, как позже будет сказано «убивать живых во имя нерожденных» — не грех), между шестью молодыми людьми подсознательно разыгрываются обычные для этого возраста игры — игры полов. Ольга живет с тихим и надежным Давидом (Николай Белин), но в крошечной конспиративной комнате есть два центра притяжения, которые ощутимо борются друг с другом. И вот тут становится понятно (и, думаю, режиссер Фокин рассчитывал именно на этот эффект), что демократия в истории — вещь крайне сомнительная, что лидеров не выбирают, это сложный химический процесс, движущий массами, которых одни претенденты на роль предводителей гипнотизируют и влекут, а другие оставляют равнодушными. В тесной комнатке, где отмечается день рождения боевой подруги, Сосо — Кошевой по большей части молчит и остается на периферии всеобщего веселья, но все поверяют каждое свое слово его реакцией, и именно его присутствие исключает любую явную сентиментальность. И даже фраза-тост: «За Господа не надо — за Ольгу!», заставляющая сильно забиться сердце девушки, — это не про любовь, а про революцию.
Фото: Владимир Постнов, предоставлено пресс-службой Александринского театра
О роли Сталина в Тифлисской экспроприации у историков до сих пор идут споры — был ли он руководителем опасного предприятия или лишь одним из героев событий. Но у Фокина все однозначно. Четвертый павильон изображает уголок трактира, где уже есть только один безусловно главный персонаж, он же мозговой центр. Остальные — хоровод, кордебалет, включая и разбитного Камо, ряженого в костюм капитана полиции. Не говоря уже о двух грузинках в национальных костюмах красного и синего цветов: им бы танцевать для любящих родителей под цветущими вишнями, но они туда же — на вопрос Сосо, имеется ли у них оружие, вытаскивают из-под одежды внушительные стволы. А вот это как раз исторический факт: доподлинно известно, что несколько молодых женщин на Эриванской площади отвлекали непринужденной болтовней жандармов, скрывая под платьями маузеры.
Вообще юмор для этого спектакля важен — Фокин режиссер умный и отлично понимает, что самое убийственное в разговорах о политике — это впасть в излишний пафос (даже если это пафос сочувствия к невинно убиенным). Поэтому всякий раз, когда революционером удается нечто кровавое, красный бархатный занавес скрывает сцену, а перед ним возникают два уморительных аутентичных мальчика-газетчика, которые на чистом грузинском языке (в программке напротив этих ролей – шесть грузинских фамилий) сообщают последние новости. Перевода нет, но мы, конечно же, помним, что тогда на Эриванской площади погибли около полусотни человек и было украдено около пяти миллионов в пересчете на американские доллары.
Собственно, до этого момента есть ощущение, что Фокин поставил комикс для взрослых — форма, весьма популярная в сегодняшнем театре, в том числе и у режиссеров-мастеров. Но следующая сцена радикально корректирует жанр. На сей раз «павильон» отменился, задник раскрывает пространство до горизонта. Точнее, до горных вершин. Сверху спускается усыпанная розовыми цветами ветвь. А платформа, на которой разместилась революционная компания, — зеленая весенняя лужайка. Этот наивный буколический пейзаж — еще и кульминация действия, момент решительного перелома сознания будущего «великого кормчего». Сосо впервые выходит из «картинки» и противопоставляет себя всему — людям, природе, естественному ходу вещей. И впервые над сценой звучит внутренний голос героя. Применяя этот совершенно киношный прием, создающий эффект сверхкрупного плана (вспомните хотя бы «Семнадцать мгновений весны»), Фокин еще и явно отсылает к жанру житийной иконы, где в центре размещался лик святого, а вокруг в виде отдельных картинок — множество сюжетов, иллюстрирующих их деяния и подвиги. В данном случае, в спектакле — это, конечно, антижанр, потому что, выйдя на первый план, герой начинает анализировать «предательский потенциал» каждого из товарищей: «Давид слишком меня любит, и потому донесет», «В Ольге непременно так или иначе проявится белая кость», etc. А для себя – оправдывать любые действия без ограничений: «Нравственно то, что служит торжеству революции». Но главное — выстраивать драматургию, которая позволит максимально снизить риски предательства: «Нужна кровь. Кровь всех повяжет. Каждый будет бояться другого».
Тут пришло время поговорить о литературной основе спектакля. Известно, что драматург из критиков Артур Соломонов, который по просьбе Фокина начал исследовать документы, связанные с юностью Сталина, в какой-то момент с театром не договорился. И тогда в указателе источников текста, звучащего со сцены, появились «Батум» Булгакова (от него осталось буквально несколько реплик), «Бесы» Достоевского, подлинные документы и тексты современных авторов. Реплика про пролитую кровь, которая должна обеспечить страх каждого перед всеми и всех перед каждым — это практически дословная цитата из разговора Николая Ставрогина и Петра Верховенского, сущностных персонажей «Бесов». «Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать», — говорит Ставрогин Петруше, после чего тот, действительно, организует убийство студента Шатова. Случай этот Достоевский вычитал в газетах, подлинного убийцу из революционных кругов звали Сергей Нечаев, убитого — Иван Иванов. Подобные идеи витали в воздухе и время от времени реализовывались. Однако в тот момент масштаб их не доходил до катастрофического, и Достовеский мог позволить себе писать о них с брезгливой насмешкой. Но накануне первой русской революции по поводу «Бесов» в русских философских кругах разгорелись бурные дебаты. Философы не самых близких взглядов — Бердяев, Флоренский, Булгаков — сходились на том, что настоящий, подлинный бес в спектакле только один. Это Ставрогин, мощнейшего гипнотизма и ума личность, обладающий необыкновенной способностью к преступлению, остальные же — убогая чертовня, которая, тем не менее, понимает, что для осуществления их революционных планов им нужен идол, кумир. «Мы сделаем смуту — всё поедет с основ. Раскачка пойдёт такая, какой ещё мир не видал /…/. Мы уморим желание, мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат/…/. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим вас! Ивана-Царевича». Это слова Верховенского Ставрогину, от которых тот отмахивается, как от чумы. Достоевский, как уже было сказано, революционеров не жаловал, видел в них исключительно «уголовников» — и в этом смысле, почтенные отцы философии правы. Но «Бесы» вышли в 1871 году, и Ставрогин в романе – в самом деле, всего лишь избалованный барчук, в итоге сводящий счеты с жизнью, в котором Достоевского — гениального исследователя духовных надрывов — увлекла «великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость». И в то же время именно в «Бесах» под загадочным термином «шигалевщина» описана до мельчайших подробностей модель, по которой строилась советская страна до самой смерти Сталина. В романе она так и остается теорией. Кажется, что пророчество это вылилось на бумагу спонтанно, поскольку сил для осуществления этих идей Достоевский тогда не видел.
Но Фокина — и он не раз говорил об этом журналистам — невероятно зацепил тот факт, что молодой Сталин не просто прочел «Бесов» — существует: экземпляр книги, испещренный его пометками. И если смотришь спектакль Фокина, имея в бэкграунде текст «Бесов», запечатленный в голове практически дословно (для театралов это ситуация неудивительная, потому что в Малом драматическом театре четверть века шел спектакль, ставший легендарным — девятичасовое полотно с участием лучших артистов этой всемирно известной труппы), то все поступки Сосо во второй части — это постепенное превращение героя в некий гибрид Ставрогина и Верховенского. То есть, условно говоря, «великая сила» на сей раз уходит не в мерзость, а в идею — и срабатывает. И есть специальная сцена, в которой на наших глазах рождается феномен, в романе Достоевского присутствующий, опять-таки, только умозрительно: Человекобог.

Иосиф Джугашвили (Владимир Кошевой) и Ольга (Анна Блинова)
Фото: Владимир Постнов, предоставлено пресс-службой Александринского театра
Бросая вызов богу, Ставрогин в романе насилует двенадцатилетнюю девочку, женится на сумасшедней, etc. В спектакле Фокина Сосо приказывает убить отца Ольги (чтобы революция не потеряла бойца), занимается с ней сексом прямо на свежей могиле (физиологии в спектакле нет — исключительно обозначения: не тот жанр). А в довершение в качестве крови, которая должна всех повязать, выбирает кровь восьмилетнего сына фабриканта Бархатова (в наказание, что тот не отдал всех своих миллионов на революцию). «Неужели у бога есть дела поважнее? Важнее спасения ребенка?!», — вопрошает Кошевой — Сосо одновременно и у зала, и у небес, пока Бархатов — Александр Лушин валяется в ногах у потенциальных убийц. Кабы спектакль был поставлен по законам так называемого «психологического театра», этот эпизод, вероятно, выглядел бы невыносимо фальшиво, но как модель, иллюстрирующая аберрацию сознания, он срабатывает. Как и описание иконы жертвоприношения Авраама, которую Сосо (уж не знаю, насколько эти слова историчны) называет «Заказчик отменяет убийство». Реплика-апофеоз, кода спектакля, с которой герой Кошевого возвращает ребенка Бархатову — это уже нечто на грани фола. «Остановить убийство ребенка на глазах отца — это божественный поступок», — произносит Сосо, стоя в центре сцены и едва ли не воздев руки к колосникам. Дальше, по сути, должны последовать либо безумие, либо какой-то немыслимый гротеск, ибо проникнуть в черепную коробку человека, отождествляющего себя с божеством, можно только с помощью убийственной иронии. И Фокин использует эту иронию, выводя на сцену в портретном, до жути натуральном гриме Сталина и в лампасах генералиссимуса, актера, который четверть века в спектакле Додина играл роль Ставрогина — народного артиста Петра Семака. Это едва ли не ярмарочный ряженый, который является в каморку арестанта Сосо и называет ему последующие «этапы большого пути»: Беломорканал, атомная бомба, et cetera, et cetera. Тут, пожалуй, уместно вспомнить, что в «Бесов» вошли части гигантского романа, который Достоевский задумал по возвращении с каторги, и который должен был называться «Жития великого грешника».
Собственно, Фокин в очередной раз рассказывает нам очень культурную (в плане огромного количества художественных связей, отсылок ассоциаций) историю. О превращении «чертенка» навроде Петруши Верховенского (этот персонаж в спектакле Додина в процессе ожидания важного для него самоубийства Кириллова на глазах у зрителей съедал не то что куриную ножку — целую курицу) в величайшего идола-разрушителя. Одно из главных наставлений Сталина — Семака политическому узнику Сосо — осознать, что у тебя нет матери. И тут уже вспоминается не только худенькая покорная женщина из первой картины. Эта реплика у всякого культурного человека вызывает прямую библейскую ассоциацию и, разумеется, осознание дьявольского извращения канонического сюжета. Типично, кстати, достоевское. А на финал Фокин приберег фокус, раскрывать который будет преступным спойлером.
Современный театр больше не обращается к залу целиком — не расставляет указатели, не объясняет, что однозначно хорошо, а что плохо, как это делал театр XX века даже в лучших своих проявлениях. Сегодняшний театр требует индивидуальной реакции от каждого зрителя, личностного выбора. Так что по мере того, как фокус Фокина осуществляется, каждый в зале — думаю, это входило в планы режиссера, — должен пережить свою меру ужаса, в зависимости от информированности об истории собственного народа в XX веке. Лично у меня получилось по полной.
Жанна Зарецкая, специально для «Фонтанки.ру»
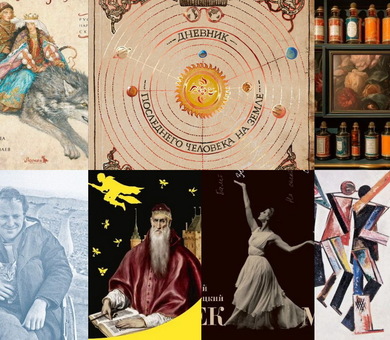
Необычные книги в подарок: роман от наследницы пивоваренной компании, путаница с призраками, гимн исчезнувшей культуре и тысячелетний сыр
Новости
29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники
- 30 декабря 2025 - Эрмитаж начинает собирать коллекцию корейского искусства — начало положил дар
- 24 декабря 2025 - В Петербурге взошла частная Луна. Ее позвали на день рождения
- 24 декабря 2025 - Музей-заповедник «Царское Село» бесплатно примет тезок веселой императрицы
- 15 декабря 2025 - Эрмитаж рассказал, в каких залах держали и допрашивали декабристов, и показал на выставке их вещи и картечь
- 15 декабря 2025 - В Царском Селе завели общительного Сережу, но на самом деле он — Каприз
Статьи
-
30 декабря 2025, 08:00Шоу на льду и цирковые артисты, праздничный джаз и переосмысление советских сказок в кино — почти две недели культурные институции удерживают праздничную волну и предлагают развлечения на любой вкус. «Фонтанка» подготовила гид по самым ярким событиям грядущих новогодних праздников в Петербурге.
-
27 декабря 2025, 13:24Две тысячи лет до нашей эры и столько же нашей охватывает выставка Эрмитажа «Искусство портрета. Личность и эпоха» в Николаевском зале, которая будет принимать посетителей до 29 марта. Историю изображения человека здесь рассматривают с древнейших времен — причем, не только на экспонатах из Египта и Греции и Рима, но и на примере находок из древних захоронений с территории России — Оглахтинского могильника Хакасии III века до нашей эры, погребально-поминального комплекса Чинге-Тей I в Туве и «Каменка III» на юге Красноярского края. А доходят до наших дней и искусства фотографии: знаменитой «Афганской девочки» Стива Маккарри и Владислава Мамышева-Монро в образе Марлен Дитрих.
-
25 декабря 2025, 15:30Как известно, книга — лучший подарок, особенно на Новый Год и Рождество. Но что делать, если «Гарри Поттер» уже перечитан и пересмотрен десять раз, «Рождественская История» и прочая святочная классика тоже, а в сторону списка школьного чтения пока не хочется смотреть? «Фонтанка» попросила писателей, художников, переводчиков и издателей (в основном, петербургских) порекомендовать детские книги. А заодно узнала, что они думают о ситуации в детской литературе сегодня.
-
21 декабря 2025, 12:15
-
20 декабря 2025, 17:30
-
18 декабря 2025, 15:00