
О литературе с Натальей Курчатовой: Время работает от нас

Два замечательных романа об истории – «Красный свет» Максима Кантора и «Лавр» Евгения Водолазкина – главные претенденты на «Нацбест» и повод еще раз вернуться к размышлениям о парадоксах времени и восприятия героев.
По мнению, которое разделяют в основном приверженцы «толстовской» линии русской литературы, роман об истории как таковой маловероятен (жанровые книги а-ля Пикуль или Морис Дрюон не в счет). Прежде всего потому, что по «мысли народной» стихия истории слагается из миллионов частных волеизъявлений, подобно океану, который состоит из молекул воды; роль отдельной молекулы, таким образом, ничтожно мала, и место метафизики занимает график приливов и среднегодовых температур, карта теплых и холодных общественных течений. Таким образом, любой «роман об истории» превращается в свод взаимосвязанных частных линий, каждая из которых так или иначе выполняет свою функцию, следует определенному набору естественных законов. Роман об истории, как ни крути, это всегда в большей степени роман о человеке как части целого – то есть о молекуле, наделенной душой и волей, но, в конечном итоге, неспособной ни на что серьезно повлиять.
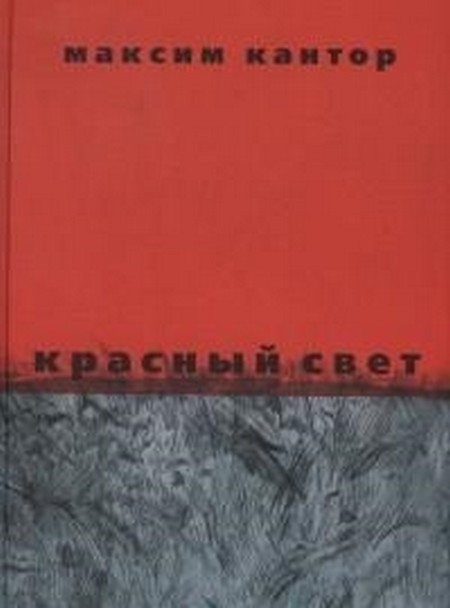
Фото: falanster.livejournal.com
Два значимых романа этого года, основные претенденты на премию «Национальный бестселлер» - романы именно что об истории. Книга знаменитого художника Максима Кантора «Красный свет», на первый взгляд следующая толстовской парадигме (собственно, Кантор осознанно называет себя последователем и приверженцем Льва Николаевича), и роман профессионального историка литературы Евгения Водолазкина «Лавр». Кантор задал себе задачу чудовищно объемную – написать русский роман об истории XX века, не ограничиваясь Россией как точкой зрения; причем «Красный свет» - лишь первая часть триптиха. Такая постановка отчасти определяется биографией Максима Карловича: отцовская ветвь семьи происходит из Аргентины, сам Кантор родился и более пятидесяти лет прожил в России, недавно переехал во Францию, преподает в Оксфорде. При этом, в его случае, территориальная дистанция не сопровождается внутренней эмиграцией – писатель весьма критично относится к современной западной цивилизации, сочетая в воззрениях интернационализм с русским патриотизмом. Именно отсюда, думается, редкий ракурс обзора, который напоминает даже не строки Бродского «лучший вид на этот город если сесть в бомбардировщик», но движение Гагарина по околоземной орбите.
Мы знаем примеры сочинений из России и о России, мы знаем феномен «русского евроромана», романа действительных или внутренних эмигрантов, но здесь охват шире. Он не стеснен границами; эта книга, как война, упраздняет их. На ее страницах есть место красным командирам и мародерам Великой Отечественной, гитлеровскому пресс-секретарю с чертами Мефистофеля и современной лондонской политтусовке. Мембраны между этими мирами (и личными выборами) очень тонки, но в то же время зачастую непреодолимы – как и бывает в жизни. Но романист – lucky beggar! – имеет дерзость заглядывать во все окна, будь он хоть девочка со спичками, хоть художник с мировым именем (каким является Кантор), это его прямая обязанность и привилегия. А в следующем кадре – уже парить над схваткой, показывая общую панораму. Правда, «парить над схваткой» у Кантора получается, пожалуй, хуже всего – слишком высока температура, слишком вовлечен и пристрастен.
Кантор зафиксировал зверства Второй мировой, узнал также историю Гельмута фон Мольтке – носителя немецкого духа в высшем проявлении, который отправился в крестовый поход против нацизма и был повешен в тюрьме, зафиксировал историю воспарения русской души, которая соответствует каждому страшному испытанию, а также историю ее падения в мирное время. Но каким бы толстовцем не провозглашал себя автор, по прочтении остается впечатление, что при всех религиозных думах великий граф – гораздо, гораздо больший позитивист, чем его верный адепт и наш современник Кантор. Возможно, это наследие европейской живописной традиции, которой Максим Карлович сознательно или подсознательно следует более, чем литературной – тут и там у него брезжат парафразы метафизических/мифологических сюжетов, будь то античные Мойры или Святое Семейство. Иными словами, субъект у Кантора – это не исторический закон, а закон природы, и даже не один на всех нравственный или божественный закон, но какие-то очень живые и частные его преломления.
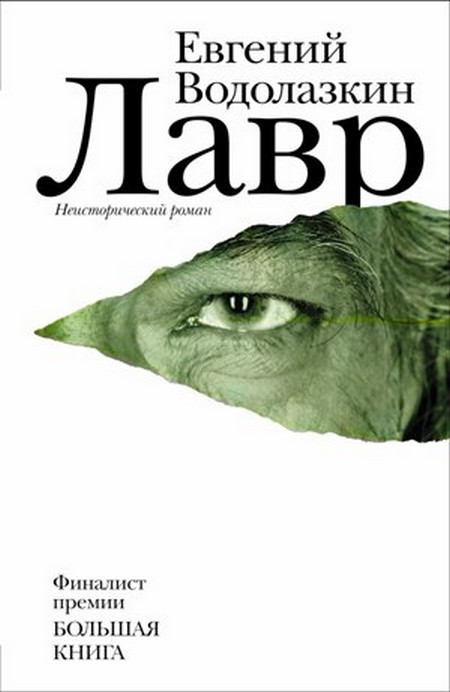
Фото: vk.com
В «Лавре» Водолазкина место действия - Средневековая Русь – северная и северо-западная Русь: Москва, что характерно, на обочине. Основные топосы – Белоозерье, Псков, Иерусалим. Здесь метафизика уже в полный рост; главный герой, искупая трагический грех юности, идет по дороге веры и правды, и он и есть основной субъект истории. В этом романе о Боге и человеческой истории собственно «Бога из культуры» поразительно мало. Можно сказать, что его там вовсе нет. При этом восприятие истории неотделимо от веры, абсолютной и при этом абсолютно рациональной. В ипостаси юродивого главный герой закидывает камнями дома добродетельных горожан – потому что в эти дома бесы зайти не способны и заглядывают в окна. Отправляясь в паломничество, он раненым попадает в дом двух добрых стариков-иудеев. Если у Кантора (с его окультуренным христианским сознанием) оптика заставляет увидеть в трех старухах, затерявшихся во времени, греческих Мойр, то для Водолазкина и его Лавра любой властитель, расширяющий Ойкумену, – и есть Александр, а старики на дороге в Иерусалим – Авраам и Сарра, это даже не обсуждается. Еще одно откровение от Водолазкина о средневековом (хотя почему только средневековом) восприятии истории, - это то, что отдельный человек в свою небольшую жизнь может быть и Александром, и Авраамом на дороге в Иерусалим, как его герой был Арсением, Устином, Амвросием, Лавром… А также знахарем, врачом, юродивым, монахом.
Читая два этих безо всяких скидок замечательных романа, думаешь о том, насколько разным бывает время. Роман об истории, это, все же, не только и даже не столько о людях и социальных процессах, это все-таки очень специальный вид спорта, подвластный далеко не каждому сочинителю, потому что всегда есть неощутимый на первый взгляд фактор – время и особенности его восприятия. И – эврика – восприятие времени меняется от эпохи к эпохе, и пока не выявлено естественных законов, единственным мерилом времени получается человек. Время, если так можно выразиться, происходит в его голове и в его (нашей) истории.
Я заканчиваю эту заметку вечером 9-го мая, папа сообщил, что был на Ваганьковском на могиле деда, прибрался и полил цветы. И мне потребовалось целых полсекунды, чтобы соединить в голове деда, могилу на Ваганьковском и цветы. Потому что дедушка в моей голове – одновременно и живой человек, и мифологический в чем-то герой, с утра я просматривала его фото – кудрявого саратовского парня с дерзкой улыбкой, потом седого дядьки на инвалидке-«Запорожце». И я даже не удивилась бы, увидев его на улице, хромающего со своею палкой. Как не удивился паломник, увидев на дороге в Иерусалим Сарру и Авраама.
Наталья Курчатова, «Фонтанка.ру»

Куда пойти 20–23 февраля: тюльпаны в Ботаническом саду, «Северное солнце» в Царском селе, «детектив» по делу античной статуи и Масленица
Новости
29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники
- 20 февраля 2026 - Не стало солиста Shortparis Николая Комягина
- 19 февраля 2026 - Стало известно, что будет в новом общественном пространстве на Фонтанке и как оно будет выглядеть
- 13 февраля 2026 - АСТ обратилось к правообладателям с просьбой изменить книгу Стивена Кинга «Оно»
- 12 февраля 2026 - «АСТ» продлило права на вышедшие в России до 2022 года книги Стивена Кинга
- 12 февраля 2026 - Антон Лапенко возглавит загибающийся хоккейный клуб в новом сериале «Седьмой игрок»
Статьи
-
19 февраля 2026, 14:30Заглавная героиня фильма Антона Богданова «Красавица» — реально существовавшая бегемотиха, которую во время блокады выхаживала сотрудница Зоосада Евдокия Дашина. В фильме ее играет Юлия Пересильд, а Красавицу озвучивает Мария Аронова — по несколько сказочному сценарию, бегемота способен слышать контуженный старшина морфлота (Слава Копейкин), отправленный на охрану Зоосада.
-
19 февраля 2026, 21:40В Петербурге и окрестностях готовятся гулять на Масленицу. И если блины уже прочно вошли в меню последних дней, то теперь приближается самая красочная часть праздника — уличное веселье и сожжение чучела Масленицы. Организаторы на разных площадках соревнуются в креативе — а мы можем выбрать, у кого получается убедительнее или оригинальнее.
-
16 февраля 2026, 14:06
-
13 февраля 2026, 14:32



