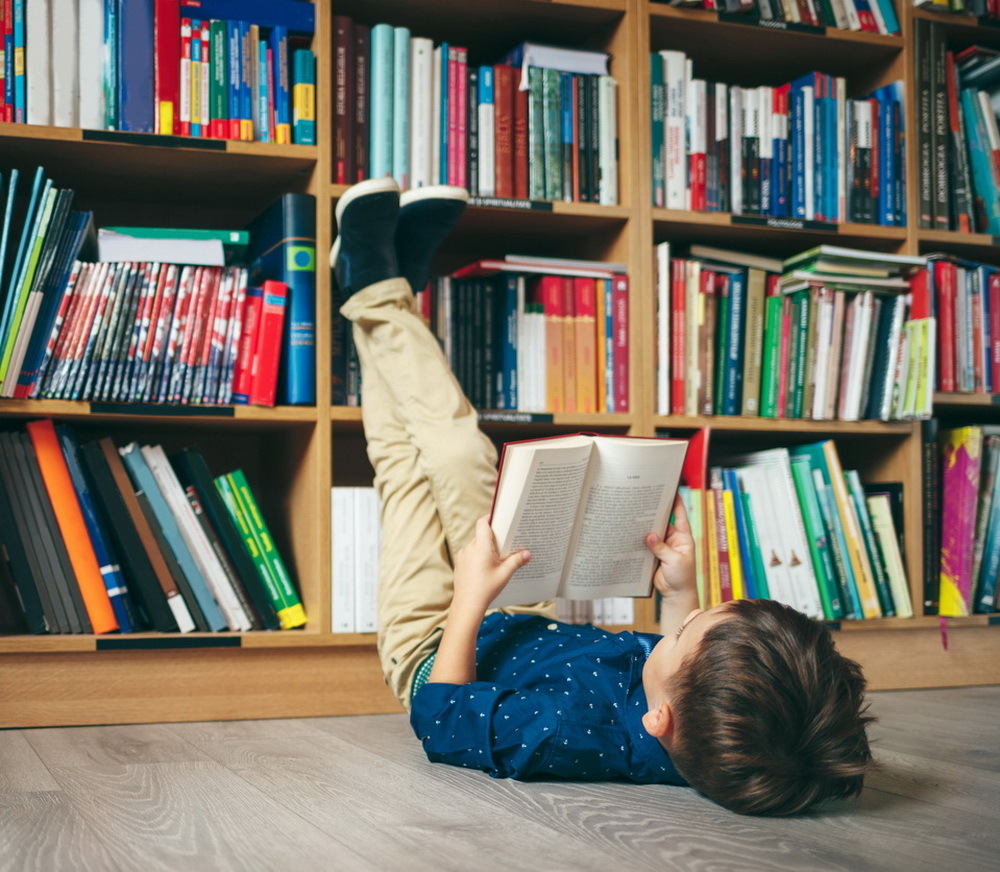Для милых дам: Гроот как «Инстаграм» XVIII века

Вдоль канала Грибоедова стоически мерзнет очередь на Айвазовского. Хотя ключевые полотна мариниста в Русском музее обитают круглый год. А вот любовно собранную в персиково-розовых интерьерах Михайловского замка выставку немца Георга Христофа Гроота, придворного живописца Елизаветы Петровны, посещают лишь искушенные. Между тем экспозиция в Михайловском куда любопытнее и интереснее для осмысления.
В Русском музее Гроота — выставка приурочена к 300-летию художника – ставят «у истоков национальной школы живописи». Действительно, при Елизавете выделяется в отдельное учреждение Академия художеств, а сам мастер прилежно учил, например, крепостного художника Ивана Аргунова. В этом есть пикантный контраст – «варяга» призывают в столицу молодой империи писать шальную императрицу Елизавету, а заодно учить «мужиков» вроде Аргунова. Хотя на варяга низкорослый слабый здоровьем Гроот едва ли тянул. И, конечно, ни о какой национальной школе речь не идет. Живопись елизаветинского времени – это провинциальные опыты с привезенным из Франции рококо. Оставшийся после петровских голландских мод темный фон, порфировые лица, иконография бесстыжего 18 века, позволяющая императрице щеголять в мужском костюме и дразнить арапчонка. Кроме монарших особ, Гроот и другие приглашенные мастера часто писали таких же иностранцев на русской службе. Эти портреты особенно экзотичны – где-то на окраине цивилизованной Европы, на холодном болоте немецкий художник пишет потомка датского короля или воспитателя будущего Петра III. На положении портретируемых стоит сделать акцент – оно даёт понять, что речь идет именно о придворном искусстве. И Гроот – не Гойя, который, будучи «рукопожатным» при испанском дворе, оставался ценнейшей творческой единицей. Гроот, его соратники и ученики были призваны оформить жизнь елизаветниского двора в красивый «Инстаграм», и на выставке не покидает ощущение, что она сделана для прихотливой женщины-авантюристки.
Казалось бы, в окружении поясных портретов и множества Елизавет только и можно что вести урок истории по означенному периоду. Не дает покоя только явное отличие их от более понятного нам XIX века. Буйная придворная жизнь XVIII столетия с дворцовыми переворотами, балами (смесь совсем уж диких петровских «ассамблей» с затянувшимся девичником императрицы) и сменой фаворитов отразилась в каждом лице и биографии. Время Елизаветы – все еще переломное, а потому контрастное. В его героях есть толика авантюризма, спрятанная под пышные парики. Собакин: потомок еще боярского рода, военный, раненный в левый глаз, знаток иностранных языков. Гроота очевидно притягивает как модель Екатерина Алексеевна, будущая императрица – в точеном лице намечается властный магнетизм. Есть и особо тонкий портрет Елизаветы, «В мужском костюме» 1745 года (работа Луи Каравака). Мягкое женственное лицо, загадка темных глаз, легкое свечение кожи в темном овале фона.

Фото: предоставлено Государственным Русским музеем
Наш зритель гордиться своей любовью к русскому реализму (часто лиричному и даже романтичному, Айвазовский тому пример), а вопрос провинциальности русской живописи по отношению к европейцам кураторы умело обходят. Но выставка в Михайловском прямо на нее указывает, оформляя слепок переходной эпохи, полной «варягов». Подчиненное положение русских «мужиков» по отношению к приглашенным мастерам подчеркивает технически несовершенный русский фарфор и стекло (первые образцы продукции наших мануфактур), мебель и даже костюмы. Прикладное искусство и интерьер вообще дают для понимания жизни елизаветинского двора больше, чем живопись. И дорогой дорожный набор для завтрака, и очаровательные фарфоровые чашечки, и туфли на каблуках – все овеяно флером заграничного шика, так понятного нам сегодня. И в этом смысле символично, что Русский музей столь тщательно подготовился к 300-летию придворного иностранца – кажется, за два с половиной века мало что изменилось.

Г.Х.Гроот. Портрет княгини А.И.Куракиной. 1747. Государственный Эрмитаж.
Фото: предоставлено Государственным Русским музеем
Что же такого важного привнес Гроот и прочие «варяги» в русскую живопись, кроме того, что вывели ее придворную составляющую на периферийный европейский уровень? В Англии в это время начинается расцвет, работает Хогарт, в Голландии «золотой век» уже позади (а Екатерина II вот-вот начнет скупать голландскую живопись целыми коллекциями). Во Франции переосмысляют Рубенса, в Испании, страшно сказать, уже был Веласкес и грядут шедевры Гойи. Налицо – счастливое единение правящих династий с главными талантами европейских наций. Но самое важное, что надо было привезти в Россию – светский тон живописи. Это попытался сделать самородок петровского времени Иван Никитин, учившийся и в Оружейной палате, и в итальянских мастерских. Но при Анне Иоанновне светскость, видимо, не ко двору пришлась: Никитина сослали в Тобольск за пасквиль. О его наследии говорить сложно: подписных работ осталось всего несколько, но портрет умирающего Петра Великого и сегодня производит впечатление. Выставки-блокбастеры, посвященные крупнейшим мастерам XIX века, лишний раз подтверждают привязанность массового зрителя к золотым временам русского реализма. После Серова в Третьяковской галерее выставляли Федора Рокотова, и ажиотаж быстро спал. Легкая кисть, талантливые, но наивные на фоне того же Серова портреты XVIII века взывают к культурным комплексам, напоминают о том, как долго и не всегда умело мы копировали чуждые нам стилистические решения. Выставок, связанных с русским «галантным веком», не так много, и сейчас Гроот – скорее напоминание о беззаботном периоде ученичества наших художников, чем повод для гордости за скорое постижение азов русскими преемниками немца. И именно эта легкость и неуверенность, характерная для раннего детства нашего академизма, очень ценна на фоне сегодняшнего агрессивного отстаивания культурного суверенитета нации.

Собственный столовый сервиз императрицы Елизаветы Петровны. 1759-1762
Фото: предоставлено Государственным Русским музеем
В XVIII веке на стыке обмирщения иконы (которая долгое время заменяла любую светскую живопись) и голландского влияния зарождается русский жанр. Как тут не вспомнить семью Зубовых: Федора – иконописца и его сына Алексея, гравировавшего виды Петербурга. Затем европейское искусство пойдет по двум параллельным путям, отдавая дань классицизму и романтизму, русские же художники окажутся на мировой арене много позже. И придворное искусство елизаветинского времени сегодня воспринимается как уютный «дамский уголок» в истории нашего искусства.
Выставка продлится до 20 марта
Анастасия Семенович, специально для "Фонтанки.ру"
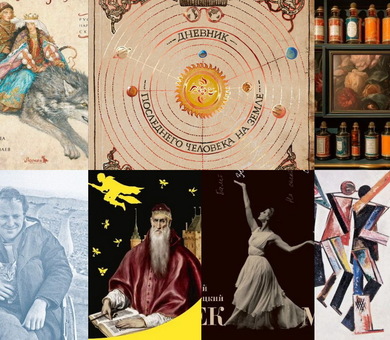
Необычные книги в подарок: роман от наследницы пивоваренной компании, путаница с призраками, гимн исчезнувшей культуре и тысячелетний сыр
Новости
29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники
- 30 декабря 2025 - Эрмитаж начинает собирать коллекцию корейского искусства — начало положил дар
- 24 декабря 2025 - В Петербурге взошла частная Луна. Ее позвали на день рождения
- 24 декабря 2025 - Музей-заповедник «Царское Село» бесплатно примет тезок веселой императрицы
- 15 декабря 2025 - Эрмитаж рассказал, в каких залах держали и допрашивали декабристов, и показал на выставке их вещи и картечь
- 15 декабря 2025 - В Царском Селе завели общительного Сережу, но на самом деле он — Каприз
Статьи
-
30 декабря 2025, 08:00Шоу на льду и цирковые артисты, праздничный джаз и переосмысление советских сказок в кино — почти две недели культурные институции удерживают праздничную волну и предлагают развлечения на любой вкус. «Фонтанка» подготовила гид по самым ярким событиям грядущих новогодних праздников в Петербурге.
-
27 декабря 2025, 13:24Две тысячи лет до нашей эры и столько же нашей охватывает выставка Эрмитажа «Искусство портрета. Личность и эпоха» в Николаевском зале, которая будет принимать посетителей до 29 марта. Историю изображения человека здесь рассматривают с древнейших времен — причем, не только на экспонатах из Египта и Греции и Рима, но и на примере находок из древних захоронений с территории России — Оглахтинского могильника Хакасии III века до нашей эры, погребально-поминального комплекса Чинге-Тей I в Туве и «Каменка III» на юге Красноярского края. А доходят до наших дней и искусства фотографии: знаменитой «Афганской девочки» Стива Маккарри и Владислава Мамышева-Монро в образе Марлен Дитрих.
-
25 декабря 2025, 15:30Как известно, книга — лучший подарок, особенно на Новый Год и Рождество. Но что делать, если «Гарри Поттер» уже перечитан и пересмотрен десять раз, «Рождественская История» и прочая святочная классика тоже, а в сторону списка школьного чтения пока не хочется смотреть? «Фонтанка» попросила писателей, художников, переводчиков и издателей (в основном, петербургских) порекомендовать детские книги. А заодно узнала, что они думают о ситуации в детской литературе сегодня.
-
21 декабря 2025, 12:15
-
20 декабря 2025, 17:30
-
18 декабря 2025, 15:00