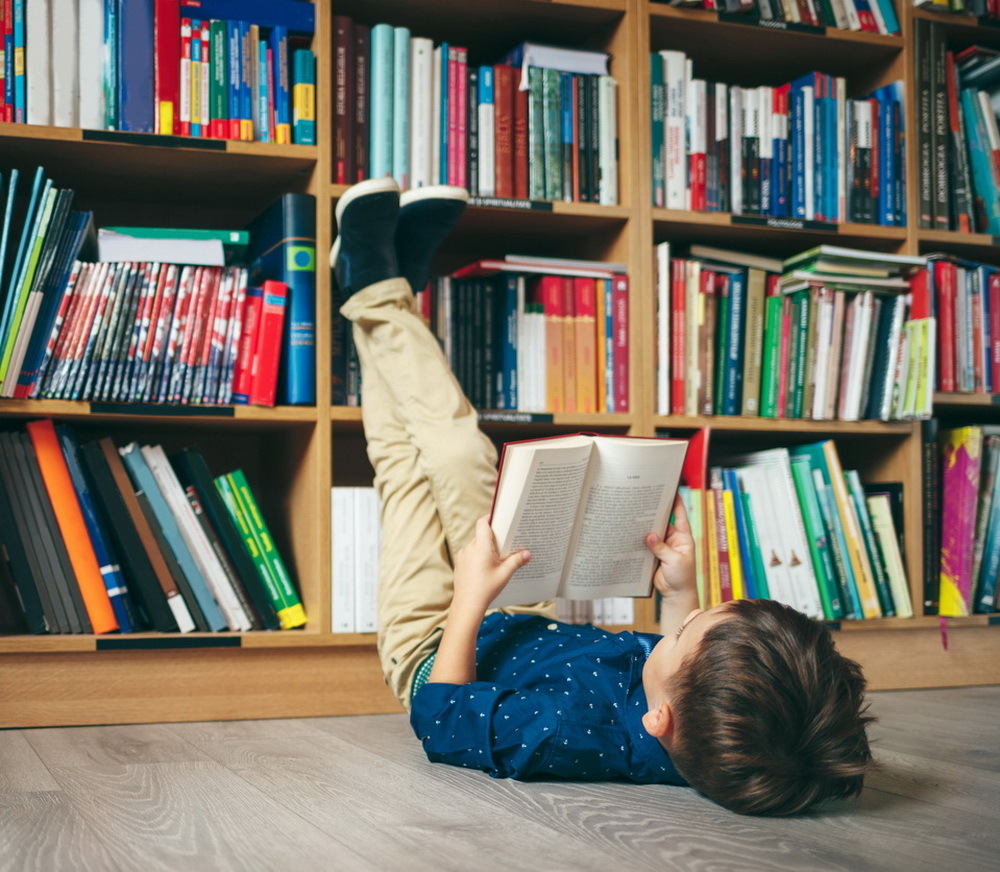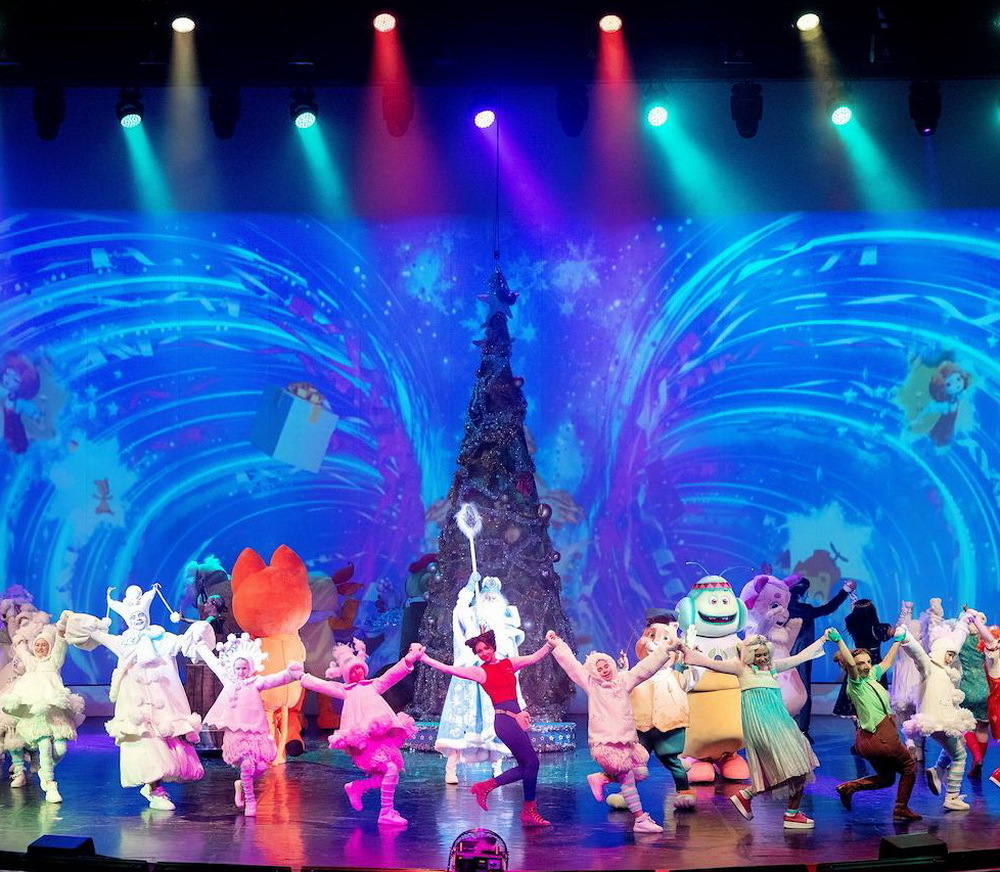Игра в классиков: прогулка по «университетам» Чехова, Толстого, Достоевского

Бунин – недоучившийся гимназист, Чехов – второгодник и Толстой, бросивший университет. В петербургском музее Достоевского открылась выставка «Как учились писатели». Она даёт неожиданный взгляд на систему образования XIX века и позволяет сравнить её с современной. Здесь также организован мастер-класс «Переписать Толстого и Достоевского», где предлагается попрактиковаться в дореволюционной каллиграфии и расшифровке почерка классиков.
Десяток людей от 14 до 70 собрались в помещении, стилизованном под дореволюционный школьный класс. Перед нами – грифельная доска. На узких партах лежат листы с копиями рукописей Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского.
- «Чего…», «Чего же знаю…», – сбивчиво читает почерк Пушкина парень в джинсах и сером свитере. Но на третьей или четвертой попытке сдаётся: – Ничего не понимаю.
Я, если честно, не понимаю тоже. У «нашего всё» легко поддаются дешифровке лишь многоточия да портрет мужчины с усами и бакенбардами на левом поле рукописи. У Лермонтова самое понятное – рисунок коня, несущегося по листу под заголовком: «Глава III». С Достоевским дело проще: с его речью о Пушкине, произнесённой 8 июня 1880 года, журналист «Фонтанки» оказался знаком. Так что строки «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа» (позаимствованные, кстати, у Гоголя) понимаются почти интуитивно. А вот Лев Толстой вновь вводит в ступор. Крупные буквы наклонились, как деревья от ветра, и, кажется, вот-вот рухнут на бок, образовав на странице непроходимый бурелом.
- Русские писатели XIX века обязательно изучали каллиграфию в гимназиях или с домашними учителями. Пушкину, например, в Императорском Царскосельском лицее приходилось оттачивать почерк по 18 часов в неделю, – комментирует ведущая мастер-класса, гид музея Достоевского Марина Уварова. – Но уроки прошли зря: какая уж тут каллиграфия, если муза торопит писать?
Но задание усложняется: нам предлагают скопировать одну из рукописей. Уварова раздаёт перьевые ручки – не старинные, конечно, а современные, в чёрном пластиковом корпусе. Некоторые ученики сразу же ставят кляксы, другие безрезультатно скребут по листу, так и не выдавив ни капли чернил.
- Искусство каллиграфии зависит от того, как мы сидим, как держим спину, как у нас стоят ноги, откуда падает свет, – наставляет Уварова. – Перьевая ручка требует дисциплины – её нужно держать мягко, под наклоном, иначе будет капризничать.
«Абстрактное не воспринимал, математику люто ненавидел»
Каллиграфия – не единственный предмет, в котором лучшие представители отечественной словесности терпели неудачи, – выясняю после мастер-класса, бродя по выставке. У Пушкина были сложности с математикой, Достоевский страдал от муштры в петербургском Главном инженерном училище. Александр Грибоедов «учился посредственно». Иван Бунин «абстрактное не воспринимал», «математику люто ненавидел» и был забран из гимназии по болезни, закончив лишь три класса.
Антон Чехов «учился неважно»: «в третьем классе остался на второй год, в пятом классе просидел два года». Лев Толстой в студенческие годы насколько увлёкся светской жизнью, что бросил учёбу в Казанском университете.
Конечно, были среди писателей и хорошисты, и отличники. Критик и мемуарист Сергей Аксаков окончил университет в 15-летнем возрасте. Михаил Салтыков-Щедрин отличался прилежной учёбой, и за казённый счёт был зачислен в Царскосельский лицей. Впрочем, вне зависимости от школьных оценок, писателей объединяло то, что они знали по нескольку иностранных языков, запойно читали, успешно занимались самообразованием. Вспомнить хотя бы Пушкина, который в девятилетнем возрасте читал Плутарха, «Илиаду» и «Одиссею».
Детский опыт каждого из 15 героев выставки получил визуальное воплощение: вот портрет литератора, вот литографии мест, где он рос. Ниже – доска с краткой сводкой успехов и неудач: «Знал французский; немецкий учил, но свободно не владел; любил словесность. Много читал. Прозвища: маменькин сынок, плакса, телемак, ментор, минерва». «Знал английский, французский, немецкий. Свободно читал на итальянском, польском, чешском и сербском. Знал греческий, латынь, украинский, татарский, церковно-славянский. Изучал турецкий, древнееврейский, голландский и болгарский языки».
Чтобы не навеять на посетителей скуку педагогической информацией, целая стена выставки отдана под юмористические рисунки. Главный дизайнер музея Достоевского Игорь Князев, автор иронической книги «Достоевский в картинках», проиллюстрировал яркие эпизоды из детства классиков. Маленький Гоголь пытается оттолкнуть нависающего над ним человека со скрипкой. Пояснительный текст гласит: «Севрюгин, учитель пения, замечая, что Гоголь иногда фальшивил и не был в состоянии петь в такт с товарищами, приставлял ему скрипку к самому уху, называя его глухарём, что разумеется, вызывало всеобщее веселье».
Иван Тургенев в смешных панталонах и красном платье (именно в платье дворянских мальчиков наряжали до 3-4 летнего возраста) завис над ямой, откуда к нему лапы тянут бурые медведи. «В 1822 году семейство Тургеневых отправилось за границу и посетило, между прочим, Швейцарию. При осмотре известной Бернской ямы, где хранятся медведи, четырехлетний мальчик чуть не провалился туда и дорого поплатился бы за свою неосторожность, если бы отцу не удалось вытащить его оттуда, в ту же минуту, за ногу», – свидетельствует отрывок из «Автобиографии» писателя.
Сила воли и чтение
- Можете рассказать, как появились иллюстрации? Они созданы специально для выставки или просто «пришлись к слову»? – спросила «Фонтанка» заместителя директора музея Достоевского, куратора выставки Веру Бирон.
- Мы с Игорем Князевым задумали их специально для выставки. Хотелось немного разрушить академичность, сложившуюся вокруг великих писателей. Я искала забавные сюжеты из детства литераторов, Игорь рисовал. Для меня самой было неожиданностью узнать, например, что Герцен в детстве любил ломать игрушки, Бунин в 11 лет лепил черепа, помогая своему родственнику – ваятелю кладбищенских памятников. К тому же, важно было создать контакт между посетителями и героями. Эту задачу можно было идеально решить, продемонстрировав детские портфели или письменные принадлежности классиков. Но эти предметы не сохранились – мы показываем период учёбы, когда ещё никто не знал, что тот или иной человек станет великим.
- Для какой аудитории предназначена выставка?
- Посетитель от 6 лет и до бесконечности сможет найти что-то интересное или полезное. Я, например, отлично понимаю, как хорошо изучать языки. Но, посчитав, сколько языков знали писатели, задумалась: «Может быть, пора учить третий, четвертый, пятый иностранный?».
- Выставка косвенно поддерживает миф, что великие писатели, да и вообще все гении, – троечники. Не опасаетесь, что, посетив её, школьники решат забросить учёбу?
- Я бы сделала другой вывод: все писатели с детства знали, что им нужно, и отсекали ненужное. Единственный, кому пришлось поступить по воле отца в военное училище и доучиться в нелюбимом заведении – Фёдор Михайлович Достоевский. Но и тот через полгода работы по профессии – военным инженером – бросил её ради писательства. То есть, если у человека есть сверхзадача, если он знает, кем хочет быть, то главное – сила воли. И чтение. Писатели могли не любить математику, химию, но любили литературу и потрясающе много читали. В том числе на иностранных языках, которые знали в совершенстве. Кто из нас сейчас может этим похвалиться?
- Почему темой для мастер-класса выбрана именно каллиграфия? Ведь в XIX веке дворяне изучали достаточно других предметов – и алгебру, и историю, и древние языки, даже танцы и искусство фехтования.
- Всем известно, что каллиграфия была обязательным предметом. Но всем известно и то, что лучшие литераторы в большинстве своём были совсем не каллиграфами. К тому же, многие классики создали персонажей, профессионально занимавшихся переписыванием рукописей – Акакий Акакиевич Башмачкин, Макар Девушкин. Почему бы гостям музея не попробовать себя в роли маленького человека, который переписывает великого?
- Выставка заставляет задуматься не только о писателях, но и о системе образования XIX века. Какие выводы о ней вы для себя сделали? Чем она отличается от современной?
- У меня растут две внучки, и, хотя они ещё совсем маленькие, я уже думаю, куда им потом пойти учиться. Создавая выставку, интересно было разобраться, а как в XIX веке получались такие разумные люди. Вывод напрашивается не новый, но важный: всё упирается в семью, и почти всё равно, какая у тебя школа. Писатели были очень образованными людьми с огромных охватом мировой культуры, это ощущается в их произведениях. Благодаря не столько учебным заведениям, в которых они учились, сколько привитой родителями тягой к знаниям, качественному домашнему образованию и удивительной силе воли: языки, философию, литературу они осваивали сами.
Выставка продлится до 14 марта по адресу: Кузнечный переулок, 5/2. Мастер-классы проводятся на выходных, их расписание нужно уточнять по телефону музея. Кроме каллиграфического мастер-класса, для посетителей проводится занятие по сочинению сказок – оно лучше всего подойдёт для учеников младших и средних классов. В феврале музей дополнительно запустит аудиоэкскурсию по выставке, записанную актёром Александром Новиковым.
Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

Лицом к лицу с историей. На выставке в Эрмитаже показывают портреты за 4000 лет от погребальных масок до фото
Новости
29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники
- 24 декабря 2025 - В Петербурге взошла частная Луна. Ее позвали на день рождения
- 24 декабря 2025 - Музей-заповедник «Царское Село» бесплатно примет тезок веселой императрицы
- 15 декабря 2025 - Эрмитаж рассказал, в каких залах держали и допрашивали декабристов, и показал на выставке их вещи и картечь
- 15 декабря 2025 - В Царском Селе завели общительного Сережу, но на самом деле он — Каприз
- 14 декабря 2025 - Умерла Евгения Петрова, много лет работавшая замдиректора по науке Русского музея
Статьи
-
26 декабря 2025, 08:00В последние выходные этого года культурные площадки Петербурга окончательно переключаются на новогодний лад. Рассказываем, где искать выставки на рождественские темы, как попасть в «волшебный лес» Фонтанного дома и стать участником карнавала и с какой новинкой театр «Мастерская» входит в 2026 год.
-
25 декабря 2025, 15:30Как известно, книга — лучший подарок, особенно на Новый Год и Рождество. Но что делать, если «Гарри Поттер» уже перечитан и пересмотрен десять раз, «Рождественская История» и прочая святочная классика тоже, а в сторону списка школьного чтения пока не хочется смотреть? «Фонтанка» попросила писателей, художников, переводчиков и издателей (в основном, петербургских) порекомендовать детские книги. А заодно узнала, что они думают о ситуации в детской литературе сегодня.
-
20 декабря 2025, 17:30
-
18 декабря 2025, 15:00
-
15 декабря 2025, 11:29