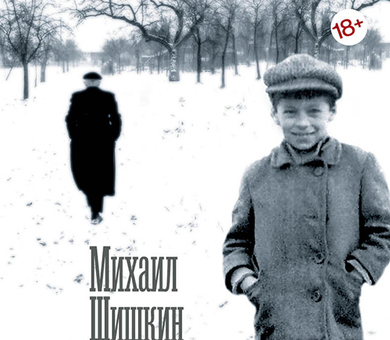
Оружие за подкладкой: «Пальто с хлястиком» Михаила Шишкина

В «Редакции Елены Шубиной» выходит сборник малой прозы Михаила Шишкина «Пальто с хлястиком». По мнению обозревателя «Фонтанки», возможно, самая личная книга лауреата «Русского Букера», «Нацбеста» и «Большой книги» содержит, тем не менее, некоторое количество подводных камней, и приступать к ее чтению стоит с определенной долей осторожности.
В новую книгу Михаила Шишкина вошли тексты, написанные с 1991 по 2016 годы: сборник, несмотря на черно-белую обложку, получился достаточно пестрым. Автобиографические очерки, откровенные до такой степени, что читать их порой становится неловко, перемежаются с философскими эссе и документальными рассказами и повестями, кусками чужой жизни, из которых будто бы вовсе выпарен голос писателя, но при этом именно в них автор раскрывается со всей полнотой и рассказывает читателю о самом себе гораздо больше, нежели в текстах, где повествование ведется от первого лица.
«То, что снимает фотограф, видит и мыслит его самого. Фотография – это не то, что фотограф думает и говорит о дереве, о позирующих за деньги и без, о снеге, небоскребах, волосах на лобке, скелетах, матрацах, навозной куче, ночном трамвае, квадратах, вспоротых лошадях или просто пятнах цвета, палитра которого ограничена предложением soft- и hardware. Это ведь дерево, позирующие и непозирующие снег, ночной трамвай и все, ему видимое, думает и говорит о нем. Ему кажется, что он приглядывается в объектив, а это мир разглядывает через линзу его самого. И фотография будет не о мире, а о нем. Фотограф всегда фотографирует себя. И здесь не поможет никакая ретушь, никакой фотошоп. Мы видим в конечном счете больше того, что видит в окуляр нажимающий на кнопочку. Видим его самого не закрытого кожей. Видим, как и что он ищет – в одиночку. Один на один со своим временем. Со своей смертью».
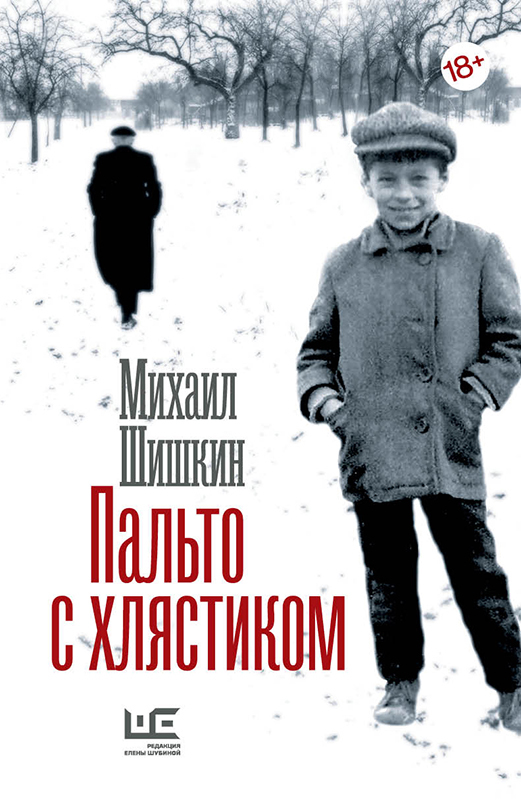
Фото: редакция Елены Шубиной
Приведенная цитата – из эссе «Человек как объяснение света в любви». Все, что Шишкин говорит о фотографии, в равной степени применимо к его прозе. И если рассматривать «Пальто с хлястиком» как своего рода фотоальбом, два лучших образца вроде бы отвлеченного, бесстрастного, но при этом предельно личного высказывания – исторические новеллы «Кампанила Святого Марка» и «Родина ждет вас!». Оба текста представляют собой хитросплетенный монтаж писем, документов, свидетельств очевидцев, дополненный, на первый взгляд, сухим пересказом событий. Язык едва ли не канцелярский, попытки искусственно воссоздать чувства и мысли того или иного реально существовавшего персонажа сведены к нулю, авторская оценка событий, и это, возможно, важнее всего, отсутствует. Ни намека на лишнюю эмоцию, ни тени желания навести, подтолкнуть читателя к заранее спланированным переживаниям и мыслям. Для Шишкина здесь существенны лишь действующие лица и текст как таковой. Про себя он то ли забывает, то ли умышленно заметает следы своего присутствия. И ровно поэтому оказывается различим буквально невооруженным взглядом. Именно здесь в наибольшей степени проявляется его дар рассказчика. Писатель растворяется в чистом нарративе, история же в итоге вбирает в себя абсолютно все – и героев, и читателя, и автора.
Однако если «Кампанилу» и «Родину» можно считать жанровыми и/или репортажными фотографиями, то автобиографические тексты сборника напоминают скорее селфи. В человеке, фотографирующем самого себя, чаще всего сквозит одновременно неуверенность и некая самоупоенность. В этом смысле абсолютно все равны: подходят к зеркалу или же просто направляют объектив на себя и нажимают кнопку shot. Вот я какая, вот я какой, мордашка эдакой. Все это вводит того, кто впоследствии на эти снимки смотрит (или в, данном случае, читает тексты), в состояние некоего ступора. С какой нежностью, с каким вниманием к себе сделаны картинки. То, как их автор видит сам себя, то, в чем он сам себе признается в моменты уединения, становится достоянием общественности. И при этом довольно часто не совпадает с действительным образом.
«Я всю ночь не мог заснуть. Была жуткая гроза, но не спалось мне, конечно, не из-за грозы. Всё тело гудело, так гудят провода от тока. Это гудел еще не написанный текст. А может, все ненаписанные романы, которые ко мне приближались уже из темноты, но нужно еще было долго жить, чтобы их дождаться. Я не мог лежать от этого гудения, вскакивал, бродил по квартире, сидел подолгу у окна и смотрел, как на улице всё полыхает и содрогается».
Подобного рода пассажи пригоршнями разбросаны по автобиографическим текстам, которых в книге добрая половина. Автор будто бы упивается своим даром, который, с одной стороны, очевиден и неоспорим, а с другой, описанный такими вот словами, ощутимо теряет в цене. Представьте себе человека, занимающегося изготовлением деревянной мебели, который рассказывает, как в нем «гудела» еще не сделанная табуретка. Или повара, которому не давал покоя досель не приготовленный жюльен. Вполне может статься, что так оно и было. Однако результат любого ремесла (а писательство – ровно такое же ремесло, как столярное дело или готовка) ощутимо блекнет, если изготовитель не просто перехваливает, но в определенном смысле сакрализирует и свое детище, и процесс его создания.
Самая большая читательская удача – прочитать книгу, которая не навязывает саму себя, а позволяет самостоятельно найти возможность заглянуть под полог тайны, однажды открывшейся прозаику. Но если писатель выходит на свет и заявляет: «Мне открылась тайна, я носитель знания и вообще маг и чародей», – волей-неволей возникает вопрос его уверенности в себе, искренности и ценности его слов: зачем проговаривать, выбалтывать нечто, с одной стороны, очевидное, а с другой, сокровенное? Книга же при этом остается просто книгой, как и табуретка – табуреткой. Правда, если вас зовут Алвар Аалто, из табуретки может получиться шедевр функционализма. Точно так же у Михаила Шишкина проза неизменно превращается в нечто большее, и ровно поэтому каждый момент смакования автором собственного дара выглядит чем-то избыточным, производит эффект, явно противоположный тому, которого он хотел добиться.
На страницах «Пальто» Шишкин также нередко предстает человеком в определенной степени жестоким: сводит счеты то со школьным военруком, то с приятелем студенческих лет, а то и с целым народом, неоднократно называя его представителей рабами. Перочинный ножик в руках профессионального убийцы может стать оружием массового поражения. Слово в руках писателя – точно такое же оружие, а под виртуозным пером Шишкина оно становится ядерным; и велика опасность, что взрывной волной может задеть как вполне конкретных, живших когда-то или живущих до сих пор людей, так и случайных прохожих, читателей, лично вас, например. Впрочем, вопрос, стоит ли вообще открывать этот ящик Пандоры, каждому интересующемуся, вне всяких сомнений, предстоит решить самостоятельно.
Сергей Кумыш, специально для «Фонтанки.ру»

Куда пойти 6–8 февраля: весь мир в Анненкирхе, «Зимний концерт» Мастранджело и ночной звездный театр
Новости
29 апреля 2025 - Свет, цвет и эклеры. Что делать в Эрарте на майские праздники
- 06 февраля 2026 - «Золотая маска» наградит Собянина, Минниханова и Фанни Ардан за поддержку театрального искусства России
- 04 февраля 2026 - Dance Open объявил программу: в Петербург едут «Десять маленьких грехов», культовый балет Начо Дуато и китайская акробатика
- 03 февраля 2026 - «Подписные издания» расширяются в Москву — книжный с кафе откроют в музее
- 03 февраля 2026 - 155 лаковых панно, воссозданных в Китае по традиционным технологиям, привезли в Царское Село
- 02 февраля 2026 - В Петербурге открыли музей-квартиру Айн Рэнд, написавшей «Атлант расправил плечи»



